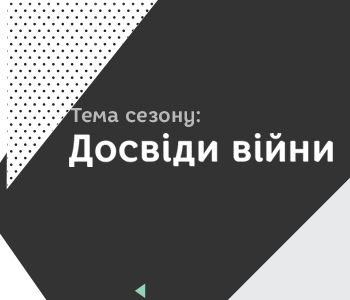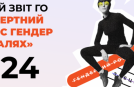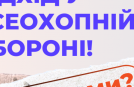Українській літературі, навіть (і особливо) сучасній, люблять закидати "відставання" від "прогресивних" літератур західноєвропейських націй – зокрема, це й досі звучить як найчастотніше пояснення того, чому вона "програє" останнім у якості та формальній виробленості. Тому що історичні обставини, гніт Російської імперії, а потім СРСР, валуєвські циркуляри, новояз, цілеспрямоване винищення української письменницької інтелігенції за часів Радянського Союзу та асиміляція її з російською в імперському просторі (що й досі спричинює дискусії на тему того, а "чиї" ж вони – українські письменники й письменниці, які отримували освіту в Москві та Петербурзі й писали російською мовою). Причин достатньо, і вони, безсумнівно, мають сенс. Однак захоплюватися, роздаючи творам української літератури характеристики "вторинних" і "запізнілих", все ж не варто.
У 1847 році британська письменниця Шарлотта Бронте видала під власним ім'ям роман "Джейн Ейр" – книгу, яка остаточно зламала стереотип про те, що жіноча література не може бути серйозною. Далекий від банальної мелодраматичності сюжет, атмосферність та стилістична виробленість – і водночас сильна й рішуча головна персонажка, яка не ламається під тиском обставин, а створює ці обставини сама. Роман "Живая душа" Марія Вілінська видала під чоловічим псевдо Марко Вовчок і в 1868 році, проте ідеї, які проговорює українська письменниця, виявляються на диво співзвучними тим, які, хай і на 20 років раніше, реалізувалися в британській літературі. Персонажка Вілінської Маша Рославлєва теж потерпає від становища "бідної родички", теж почувається невідповідною середовищу, в якому опиняється, і теж прагне самореалізуватися та власноруч заробляти на життя, навіть якщо задля цього доводиться розірвати суспільні зв'язки, поламати моделі жіночої гендерної соціалізації та обрати цілковиту непевність і невідомість замість забезпеченого життя. "Нова жінка", цілком сучасна європейському жіночому руху і в літературі, і за її межами – і це в Україні середини ХІХ століття!
Варто, втім, зауважити, що Вілінська не ігнорує й інші актуальні своєму часу ідеологічні питання. Мотивації Маші виходять далеко за межі self-empowermentу: її вустами письменниця критикує й підважує і псевдопатріотизм, і фальшиве "народофільство", та навіть й ідеї "нової жіночості", які реалізуються лише на словах, стаючи прикриттям для відчайдушного намагання "лишити все як було". Так, роман "Живая душа" написано російською мовою, так, в україномовній творчості Вілінської значно менше діяльних та активних персонажок (бо практично всі вони є "жінками з народу"). Проте факт лишається фактом: ще до Наталі Кобринської, Ольги Кобилянської та Лесі Українки українська література отримала роман про "нову жінку". А Марія Вілінська-Марко Вовчок виявляється не менш глибокою за Шарлотту Бронте, не менш іронічною за Джейн Остін – і не менш вчасною для свого часу.
Девушки все еще ходили по зале.
– Ольга, вы что-то сегодня опять грустны! – сказала Маша.
– Ах, Marie, – отвечала та, – да разве я могу веселиться? Вы знаете всю мою жизнь, знаете все, что я вынесла. Теперь, конечно, мне хорошо… Мне хорошо, – повторила она с раздражением и с горечью, – как может быть хорошо наемнице в чужом доме, где все добры и деликатны. Ах, Marie! эта доброта, эта деликатность могут ведь тоже отравлять жизнь. Когда все думают, как бы не оскорбить… вы понимаете меня!.. К тому же я теперь, как больная, как израненная, ко мне прикоснуться нельзя, все болит. И нежные руки для меня жестки!
– Разве вы не ждете ничего хорошего?
– Я? Ждать хорошего? Вы не в первый уже раз меня об этом спрашиваете, вы ребенок, Marie! Чего мне ждать? Откуда?
– От жизни. Всего, что жизнь дает.
– Мне ничего не дает она, все для меня давным-давно окончено! Умру старой учительницей где-нибудь в чужом доме – вот и все! До старости буду в службе, в зависимости!
– Вас более всего тяготит э т а зависимость, да?
– Ах, Marie, если бы вы знали, что это такое!
– Но я тоже живу в чужом доме.
– Другое дело: вы родня.
– Это хуже, что по родству живу. Гораздо лучше, если бы у меня не родство, а дело было.
– Да, мы с вами так рассуждаем, а люди иначе!
– Но тут главное, как м ы рассуждаем.
– Собственное сознание, да? Конечно, это укрепляет, это отрада… но ежечасные уколы берут свое! Вы не перечувствовали этого, Marie, не можете судить.
– Нет, я знаю, что это такое. Было время, я очень этим мучилась, но теперь прошло.
– Прошло?
– Да, прошло. Сначала я как-то пала ниц, ни на что не глядела, ничего не искала, только мучилась, а потом приподнялась и стала выхода искать.
– И нашли?
– Почти.
– Какой же? Да вы что-то задумали, Marie! Что вы задумали?
– Я задумала поступить учительницей куда-нибудь.
– Учительницей? Вы? Так это вот для чего вы все учитесь с утра до вечера?
– Да.
– Но ведь это мечта! Надежда Сергеевна никогда этого не допустит!
– Вы полагаете, она запрет меня в темную темницу, что ли?
– Нет, конечно, но ее огорчение…
– Я постараюсь как можно меньше ее огорчить; потому-то я еще не на месте, а тут.
– Ах, Marie, Marie! Что вы задумали! Какой ад вы себе сами готовите! Мне за вас страшно! Какой конец!
– Это начало, а не конец.
– Но я напрасно волнуюсь: это все мечты. Я предвижу совсем другое, Marie: я думаю, вы замуж выйдете скоро. Вы не можете остаться равнодушной к такой любви, к такой преданности! […]
Все разошлись по своим уголкам, и Маша очутилась в своей комнате.
Это была небольшая комната в одно окно, без всяких мелких украшений. Узкая белая кровать, столик, плетеный стул, на окне широкие длинные белые занавески. Тетя Фанни говорила, что здесь «грустно и строго».
– Или у меня здесь и в самом деле только «грустно и строго»? – мелькнула у Маши мысль, когда она вошла в свою комнату. […]
Маша вдруг почувствовала в себе удивительный прилив жизни и силы, точно в ней не кровь билась, а били какие-то ключи могучие, свежие, какие-то трезвые. […]
Ей стали вдруг несносны разговоры эти о добре и правде, о силе характера и назначении человека; опостылели издеванья над вседневною пошлостью житейскою, опротивели похвальбы и жалобы, потеряли свое значенье и цену страданья и добродетели Ольги Порфировны и развитость Надежды Сергеевны, все печальное, ликующее, смиренное, самонадеянное, все ее как-то теперь раздражало. Это, впрочем, не было мелкое, суетное раздражение, нет. Внимательно и серьезно, терпеливо и вдумчиво вызывала она все и всех, вопрошала и судила.
Тут уже примешивались и припутывались тысячи воспоминаний, тысячи неясных планов, много внезапных открытий, неожиданных прозрений. Прежние верования ломались и стремления прежние замирали. Прежние кумиры шатались и многие уже летели с высоты. Нового еще ничего не явилось отчетливого и определенного, но смутное, неясное начинало уже рисоваться и обозначаться чуть-чуть.
Она вспоминала детство свое, то время, когда ее дома звали в шутку б р о д я г о й и говорили, что она лес любит, как истый волк; в то время, когда, бывало, мать, чем-нибудь огорченная, вдруг сделается внезапно строга и засадит ее в комнату, и она тоскливо глядит из окна; потом она вспоминала себя девочкой на возрасте, чтения свои тогдашние, тогдашние свои волнения и недоумения; промелькнула перед нею смерть матери, то жаркое лето, когда ей дышать было трудно в их деревенском доме от запаха лекарств, а в саду голова кружилась от аромата пышно и сильно распустившихся цветов, отпеванье, последнее прощанье; потом дорога сюда, к Надежде Сергеевне, жгучая грусть и печаль при расставании с родными краями, чувство одиночества на новом месте, рой новых впечатлений, ряд новых лиц, прилив новых дум и чувств.
Что это за жизнь? Какова? Что дает? Куда ведет? […]
И здесь жизнь была почти такая же точно, как там дома, почти то же давала для развития; х о р о ш у ю б и б л и о т е к у, у д а л е н и е о т с в е т с к о й п о ш л о с т и, п р и р о д у… прибавились только красноречивые разговоры, увлекательные проповеди.
Но есть конец чтению всякой книги, не всегда удовлетворяет природа, и к чему ведет самый красноречивый разговор? Он ведь должен к чему-нибудь вести? Можно ли одну и ту же книгу читать сначала? Можно ли разговаривать все об одном и том же? […]
Все как-то, за что она ни бралась, все оказывалось несостоятельно, ни к чему не приводило ее, томило и волновало.
А за стеною няня рассказывала, как сказочный царь, не сообразивши дела, уступил новорожденного сына за ковш студеной воды.
Ну, положим, полюбит она, Маша, выйдет замуж и найдет самое завидное, как говорят, счастье. Что это такое, это так называемое завидное-то счастье?
А няня за стеною рассказывала, как «царевич невесту себе отыскал, нарядил ее в парчи да в жемчуги, в золотой карете катал, а там привез в золотой дворец, и поселились они в том дворце на покой, и стали жить да поживать, да добра наживать».
– А потом что? – вскрикнула Катя.
– И во дворце своем стали жить да поживать, да добро наж…
– А потом? Потом? – кричала Катя.
– Ах, господи, – вздохнула дремлющая няня, – потом ничего!
– Я хочу что-нибудь еще!
– И стали жить да поживать, да добра наживать!
– Нет, нет! – подумала Маша. – О, нет!